Пелевин и Пустота...

Способность Виктора Пелевина создавать шедевры вряд ли у кого-то из литературных знатоков вызывает сомнение. Особенно его малая проза (рассказы и повести) легко находит эрогенные зоны читательской души.
Романы - сложнее... Хотя Виктор Олегович приноровился почти каждую позднюю осень выдавать по книге, претендующей на романный жанр, эти его вещи частью изумляют, частью огорчают, частью вводят в мыслительный ступор...
Впечатление такое, что писатель каждый раз, когда нужно спасать от гибели романный мир, прибегает к излюбленному приёму - изменяет сознание героя. Либо его герой сумасшедший и бредит в дурдоме, либо он оказывается наркоманом и находится под воздействием мухоморов. По сути это один и тот же старый-престарый литературный приём под названием "бог из машины": древние сочинители в трудный момент просто являли на сцену бога (из волшебной машины), который своим всемогуществом исправлял ошибки сюжета или писательской мысли.
Чуть позднее придумали такой фокус - мол, это всё привиделось человеку во сне. Редкий великий автор такие фокусы использовал всерьёз и постоянно. Булгаков, к которому Пелевин часто оказывается ближе всех из наших современников, изображал сумасшедший дом в "Мастере и Маргарите" - но извне, с точки зрения автора; настоящий его сюжет мало связан с умственным расстройством Ивана Бездомного. А Пелевин сплошь и рядом объясняет действительность романного пространства воздействием галлюциногенов или душевной болезнью лирического героя. Но в романе "Чапаев и Пустота", написанном в 1996 году, всё ещё очень свежо, колея не заезжена.
Родился Виктор Олегович в 1962 году. Учился в элитной школе с английским уклоном в самом центре Москвы - вместе с детьми министров и маршалов. Отец его не работал ни в правительстве, ни в центральном комитете партии, а был скромным преподавателем на институтской военной кафедре. Но мать служила завучем в этой самой школе. Выводы делайте сами. Понятно, что мальчик имел возможность подробно изучать жизнь власть имущих уже в детстве. Возможно, его писательский цинизм родом именно из той столичной школы.
Затем Пелевин учился на инженера городского электротранспорта, даже что-то изобрёл для троллейбусов, хотел писать диссертацию, но вовремя увлёкся буддизмом, йогой и прочими восточными философиями, бросил инженерные занятия и поступил в литературный институт. Сборник его рассказов в 1994 году получил "Малого Букера". Романы "Омон Ра" и "Жизнь насекомых" произвели фурор. А потом последовал "Чапаев и Пустота"...
Сейчас огромная волна анекдотов про Чапаева (как и про Штирлица) угасла, а в конце прошлого века они были на слуху. Действие произведения происходит как бы в 1919 году в дивизии Чапаева. То есть через пару лет после революции. Пелевин сочинял свой роман тоже через пару лет после революции - расстрела Белого дома, и проблемы перехода личности из одной исторической реальности в другую ему были близки. Поэт-декадент Пётр Пустота служит у Чапаева комиссаром.
Перед вами - первые страницы романа "Чапаев и Пустота". Посмотрите на детальки, обличающие руку мастера: "мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет"; "серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрац"; "попадись мне навстречу пара волков, я совершенно не удивился бы" ...
Впрочем, читайте сами...
Николай ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел - опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи; вверху, над чёрной сеткой ветвей, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрац.
Была, впрочем, и разница. Этой зимой по аллеям мела какая-то совершенно степная метель, и попадись мне навстречу пара волков, я совершенно не удивился бы. Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно - оттого, наверно, что на груди у него висел красный фартук с надписью: "Да здравствует первая годовщина Революции". Но никакого желания иронизировать по поводу того, что здравствовать предлагалось годовщине, а революция была написана через "ять", у меня не было - за последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном.
Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади перед ним стояли два грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко-алой материей; вокруг колыхалось толпа, и долетал голос оратора - я почти ничего не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулемётному "р-р" в словах "пролетариат" и "террор". Мимо меня прошли два пьяных солдата, за плечами у которых качались винтовки с примкнутыми штыками. Солдаты торопились на площадь, но один из них, остановив на мне наглый взгляд, замедлил шаг и открыл рот, словно собираясь что-то сказать; к счастью - и его, и моему - второй дёрнул его за рукав, и они ушли.
Я повернулся и быстро пошёл вниз по бульвару, гадая, отчего мой вид вызывает постоянные подозрения у всей этой сволочи. Конечно, одет я был безобразно и безвкусно - на мне было грязное английское пальто с широким хлястиком, военная - разумеется, без кокарды - шапка вроде той, что носил Александр Второй, и офицерские сапоги. Но дело было, видимо, не только в одежде. Вокруг было немало людей, выглядящих куда более нелепо. К примеру, на Тверской я видел совершенно безумного господина в золотых очках, который, держа в руках икону, шёл к чёрному безлюдному Кремлю - но никто не обращал на него внимания. Я же постоянно ловил на себе косые взгляды и каждый раз вспоминал, что у меня нет ни денег, ни документов. Вчера в привокзальном клозете я нацепил было на грудь красный бант, но снял его сразу же после того, как увидел своё отражение в треснутом зеркале; с бантом я выглядел не только глупо, но и вдвойне подозрительно.
Впрочем, возможно, что никто на самом деле не задерживал на мне взгляда дольше, чем на других, а виной всему были взвинченные нервы и ожидание ареста. Я не испытывал страха смерти. Быть может, думал я, она уже произошла, и этот ледяной бульвар, по которому я иду, не что иное как преддверие мира теней. Мне, кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не паромщик, а некто в сером, дающий напрокат пару коньков (разумеется, та же духовная сущность).
О, в каких подробностях увидел я вдруг эту сцену! Граф Толстой в чёрном трико, широко взмахивая руками, катил по льду к далёкому горизонту; его движения были медленны и торжественны, но двигался он быстро, так, что трёхглавый пёс, мчавшийся за ним с беззвучным лаем, никак не мог его догнать. Унылый красно-жёлтый луч неземного заката довершал картину. Я тихо засмеялся, и в этот самый момент чья-то ладонь хлопнула меня по плечу.
Я шагнул в сторону, резко обернулся, ловя в кармане рукоять нагана, и с изумлением увидел перед собой Григория Фон Эрнена - человека, которого я знал с детских лет. Но боже мой, в каком виде! Он был с головы до ног в чёрной коже, на боку у него болталась коробка с маузером, а в руке был какой-то несуразный акушерский саквояж.
- Рад, что ты ещё способен смеяться, - сказал он.
- Здравствуй, Гриша, - ответил я. - Странно тебя видеть.
- Отчего же?
- Так. Странно.
- Откуда и куда? - бодро спросил он.
- Из Питера, - ответил я. - А вот куда - это я хотел бы узнать сам.
- Тогда ко мне, - сказал Фон Эрнен, - я тут рядом, один во всей квартире...
 проблемывещигрудьпальтожанрдомареволюцияфевральжизньсветвидМирТОфокусОТ и ДОдомсознаниеосень
проблемывещигрудьпальтожанрдомареволюцияфевральжизньсветвидМирТОфокусОТ и ДОдомсознаниеосень
1054 просмотра
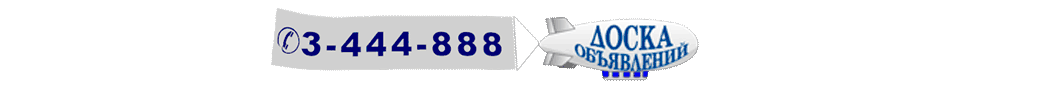

Комментарии